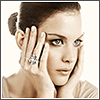|

М.Н. ВОЛКОНСКАЯ. ЗАПИСКИ
Господь решит окованныя... Миша мой, ты меня просишь записать рассказы, которыми я развлекала тебя и Нелли в дни вашего детства, словом — написать свои воспоминания. Но, прежде чем присвоить себе право писать, надо быть уверенным, что обладаешь даром повествования, я же его не имею; кроме того, описание нашей жизни в Сибири может иметь значение только для тебя, как сына изгнания; для тебя я и буду писать, для твоей сестры и для Сережи с условием, чтобы эти воспоминания не сообщались никому, кроме твоих детей, когда они у тебя будут, они прижмутся к тебе, широко раскрывая глаза при рассказах о наших лишениях и страданиях, с которыми, однако же, мы свыклись настолько, что сумели быть и веселы и даже счастливы в изгнании. Он приехал за мной к концу осени, отвез меня в Умань, где стояла его дивизия, и уехал в Тульчин — главную квартиру второй армии. Через неделю он вернулся среди ночи; он меня будит, зовет: «Вставай скорей»; я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чем дело? «Пестель арестован». — «За что?» Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила. Я видела, что он был грустен, озабочен. Наконец, он мне объявил, что обещал моему отцу отвезти меня к нему в деревню на время родов, — и вот мы отправились. Он меня сдал на попечение моей матери и немедленно уехал; тотчас по возвращении он был арестован и отправлен в Петербург. Так прошел первый год нашего супружества; он был еще на исходе, когда Сергей сидел под затворами крепости в Алексеевском равелине. Роды были очень тяжелы, без повивальной бабки (она приехала только на другой день). Отец требовал, чтобы я сидела в кресле, мать, как опытная мать семейства, хотела, чтобы я легла в постель во избежание простуды, и вот начинается спор, а я страдаю; наконец, воля мужчины, как всегда, взяла верх; меня поместили в большом кресле, в котором я жестко промучилась без всякой медицинской помощи. Наш доктор был в отсутствии, находясь при больном в 15 верстах от нас; пришла какая-то крестьянка из нашей деревни, выдававшая себя за бабку, но не смела ко мне подойти и, став на колени в углу комнаты, молилась за меня. Наконец к утру приехал доктор, и я родила своего маленького Николая, с которым впоследствии мне было суждено расстаться навсегда (Сын Николай родился 2-го января 1826 г., умер в феврале 1828 г. - Прим.). У меня хватило сил дойти босиком до постели, которая не была согрета и показалась мне холодной, как лед; меня сейчас же бросило в сильный жар, и сделалось воспаление мозга, которое продержало меня в постели в продолжение двух месяцев. Когда я приходила в себя, я спрашивала о муже; мне отвечали, что он в Молдавии, между тем как он был уже в заключении и проходил через все нравственные пытки допросов. Сначала его привели, как приводили и всех остальных, к императору Николаю, который накинулся на него, грозя пальцем и браня его за то, что он не хотел выдать ни одного из своих товарищей. Позже, когда он продолжал упорствовать в этом молчании перед следователями, Чернышев, военный министр, сказал ему: «Стыдитесь, князь, прапорщики больше вас показывают». Впрочем, все заговорщики были уже известны: предатели Шервуд, Майборода и... выдали список имён всех членов Тайного общества, вследствие чего и начались аресты. Я не дерзну излагать историю событий этого времени: они слишком ещё к нам близки и для меня недосягаемы; это сделают другие, а суд над этим порывом чистого и бескорыстного патриотизма произнесёт потомство. До сих пор история России представляла примеры лишь дворцовых заговоров, участники которых находили в том личную для себя пользу. Наконец, однажды, собравшись с мыслями, я сказала себе: «Это отсутствие мужа неестественно, так как писем от него я не получаю», и я стала настоятельно требовать, чтобы мне сказали правду. Мне отвечали, что Сергей арестован, равно как и В. Давыдов, Лихарев и Поджио. Я объявила матери, что уезжаю в Петербург, где уже находился мой отец. На следующее утро все было готово к отъезду; когда пришлось вставать, я вдруг почувствовала сильную боль в ноге. Посылаю за женщиной, которая тогда так усердно молилась на меня Богу; она объявляет, что это рожа, обвертывает мне ногу в красное сукно с мелом, и я пускаюсь в путь со своей доброй сестрой и ребенком, которого по дороге оставляю у графини Браницкой, тетки моего отца: у нее были хорошие врачи; она жила богатой и влиятельной помещицей. Был апрель месяц и полная распутица. Я путешествовала день и ночь и приехала, наконец, к своей свекрови. Это была в полном смысле слова придворная дама. Некому было дать мне доброго совета: брат Александр, предвидевший исход дела, и отец, его опасавшийся, меня окончательно обошли. Александр действовал так ловко, что я все поняла лишь гораздо позже, уже в Сибири, где узнала от своих подруг, что они постоянно находили мою дверь запертою, когда ко мне приезжали. Он боялся их влияния на меня; а несмотря, однако, на его предосторожности, я первая с Каташей Трубецкой приехала в Нерчинские рудники. Я была еще очень больна и чрезвычайно слаба. Я выпросила разрешение навестить мужа в крепости. Государь, который пользовался всяким случаем, чтобы высказать свое великодушие (в вопросах второстепенных), и которому было известно слабое состояние моего здоровья, приказал, чтобы меня сопровождал врач, боясь за меня всякого потрясения. Граф Алексей Орлов сам повез меня в крепость. Когда мы приближались к этой грязной тюрьме, я подняла глаза и, пока открывали ворота, увидела помещение над въездом с настежь открытыми окнами и Михаила Орлова в халате, с трубкой в руках, наблюдающего с улыбкой за въезжающими. Мы вошли к коменданту; сейчас же привели под стражей моего мужа. Это свидание при посторонних было очень тягостно. Мы старались обнадежить друг друга, но делали это без убеждения. Я не смела его расспрашивать все взоры были обращены на нас; мы обменялись, платками. Вернувшись домой, я поспешила узнать, что он мне передал, но нашла лишь несколько слов утешения, написанных на одном углу платка, и которые едва можно было разобрать. Свекровь расспрашивала меня о своем сыне, говоря при этом, что не может решиться съездить к нему, так как это свидание убило бы её, — и уехала на другой день со вдовствующей императрицей в Москву, где уже начались приготовления к коронации. Моя золовка, Софья Волконская, должна была приехать в скором времени; она сопровождала тело покойной императрицы Елизаветы Алексеевны, которую везли в Петербург. Я нетерпеливо желала познакомиться с этой сестрой, которую муж мой обожал. Я много ожидала от её приезда. Мой брат смотрел на дело иначе; он стал внушать мне опасения относительно моего ребенка, уверяя меня в том, что следствие продлится долго (что, впрочем, было и справедливо), что я должна бы лично удостовериться в уходе за моим дорогим ребенком и что я, наверное, встречусь с княгиней в дороге. Не подозревая ничего, я решилась ехать с мыслью привезти сюда сына. Я направилась на Москву, чтобы повидать сестру Орлову. Моя свекровь была уже там в качестве обергофмейстерины. Она мне сказала, что ее величеству угодно меня видеть и что она принимает во мне большое участие. Я думала, что императрица хочет со мной говорить о моем муже, ибо в столь важных обстоятельствах я понимала участие к себе, лишь поскольку оно касалось моего мужа; вместо того со мной беседуют о моем здоровье, о здоровье отца, о погоде... Вслед за тем я немедленно выехала. Брат устроил так, чтобы я разъехалась с золовкой, которая, будучи в курсе всего, могла бы меня посвятить в направление, принятое делом. Я нашла своего ребенка бледным и хилым; ему привили оспу, он заболел. Я не получала никаких известий; мне передавались только самые бессодержательные письма, остальные уничтожались. Я с нетерпением ждала минуты своего отъезда; наконец брат приносит мне газеты и объявляет, что мой муж приговорен. Его разжаловали одноврменно с товарищами на гласисе крепости. Вот как это произошло: 13 июля, на заре, их всех собрали и разместили по категориям на гласисе против пяти виселиц. Сергей, как только пришел, снял с себя военный сюртук и бросил его в костер: он не хотел, чтобы его сорвали с него. Было разложено и зажжено несколько костров для уничтожения мундиров и орденов приговоренных; затем им всем приказали стать на колени, причём жандармы подходили и переламывали саблю над головой каждого в знак разжалования; делалось это неловко: нескольким из них поранили голову. По возвращении в тюрьму они стали получать не обыденную пищу свою, а положение каторжников; также получили и их одежду - куртку и штаны грубого серого сукна. За этой сценой последовала другая, гораздо более тяжелая. Привели пятерых приговоренных к смертной казни. Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Бестужев-Рюмин (Михаил) и Каховский были повешены, но с такой ужасной неловкостью, что трое из них сорвались, и их снова ввели на эшафот. Сергей Муравьев не захотел, чтобы его поддерживали. Рылеев, которому возвратилась возможность говорить, сказал: «Я счастлив, что дважды за отечество умираю». Их тела были положены в два больших ящика, наполненных негашенной известью, и погребены на Голодаевом острове. Часовой не допускал до могил. Я не могу останавливаться на этой сцене: она меня расстраивает, мне больно её вспоминать. Не берусь её подробно описывать. Генерал Чернышев (впоследствии граф и князь) гарцевал вокруг виселиц, глядя на жертвы в лорнет и посмеиваясь. Моего мужа лишили титула, состояния и гражданских прав и приговорили к двенадцатилетним каторжным работам и к пожизненной ссылке. 26 июля его отправили в Сибирь с князьями Трубецким и Оболенским, Давыдовым, Артамоном Муравьевым, братьями Борисовыми и Якубовичем. Когда я узнала об этом от брата, я ему объявила, что последую за мужем. Брат, который должен был ехать в Одессу, сказал мне, чтоб я не трогалась с места до его возвращения, но на другой же день после его отъезда я взяла паспорт и уехала в Петербург. В семье мужа на меня сердились за то, что я не отвечала на их письма. Не могла же я им сказать, что мой брат их перехватывал. Мне говорили колкости, а о деньгах ни слова. Не могла я также говорить с ними о том, что мне приходилось переносить от отца, который не хотел отпускать меня. Я заложила свои бриллианты, заплатила некоторые долги мужа и написала письмо государю, прося разрешения следовать за мужем. Я особенно опиралась на участие, которое его величество оказывал к женам сосланных, и просила его завершить свои милости разрешением мне отъезда. Вот его ответ: «Я получил, Княгиня, ваше письмо от 15 числа сего месяца; я прочел в нем с удовольствием выражение чувств благодарности ко мне за то участие, которое я в вас принимаю; но во имя этого участия к вам и я считаю себя обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам высказанные относительно того, что вас ожидает, лишь только вы проедете далее Иркутска. Впрочем, предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению. 1826. 21 декабря Благорасположенный к вам Теперь я должна рассказать вам сцену, которую я буду помнить до последнего своего издыхания. Мой отец был всё это время мрачен и недоступен. Необходимо было, однако же, ему сказать, что я его покидаю и назначаю его опекуном своего бедного ребенка, которого мне не позволяли взять с собою. Я показала ему письмо его величества; тогда мой бедный отец,не владея собою, поднял кулаки над моей головой и вскричал: «Я тебя прокляну, если ты через год не вернешься». Я ничего не ответила, бросилась на кушетку и спрятала лицо в подушку. Мой отец, этот герой 1812 года, с твёрдым и возвышенным характером, — этот патриот, который при Дашковке, видя, что войска его поколебались, схватил двоих своих сыновей, ещё отроков, и бросился с ними в огонь неприятеля, — нежно любил свою семью; он не мог вынести мысли о моем изгнании, мой отъезд представлялся ему чем-то ужасным. Мой шурин, князь Петр Волконский, министр Двора, заехал за мной, чтобы везти к себе обедать, и дорогой спросил: «Уверены ли вы в том, что вернетесь?» — «Я и не желаю возвращаться, разве лишь с Сергеем, но, бога ради, не говорите этого моему отцу». Позже мне припомнились эти слова, и я поняла смысл отеческих предостережений, заключавшихся в письме его величества. В ту же ночь я выехала; с отцом мы расстались молча, он меня благословил и отвернулся, не будучи в силах выговорить ни слова. Я смотрела на него и говорила себе: «Все кончено, больше я его не увижу, я умерла для семьи». Я заехала обнять свекровь, которая велела мне вручить как раз столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска. У меня была куплена кибитка; я уложилась в одну минуту, взяла с собой немного белья и три платья да ватошный капор, который надела. Остальные свои деньги я берегла для Сибири, зашив их в свое платье. Перед отъездом я стала на колени у люльки моего ребенка; я молилась долго. Весь этот вечер он провел около меня, играя печатью письма, которым мне разрешалось ехать и покинуть его навсегда. Его забавлял большой красный сургуч этой печати. Я поручила своего бедного малютку попечению свекрови и невесток и, с трудом оторвавшись от него, вышла. В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей третьей невестки; она меня приняла с нежностью и добротой, которые остались мне памятны навсегда; окружила меня вниманием и заботами, полная любви и сострадания ко мне. Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, бывших тогда в Москве, и несколько талантливых девиц московского общества. Я была в восторге от чудного итальянского пения, а мысль, что я слышу его в последний раз, ещё усиливала мой восторг. В дороге я простудилась и совершенно потеряла голос, а пели именно те вещи, которые я лучше всего знала; меня мучила невозможность принять участие в пении. Я говорила им:«Еще, еще, подумайте, ведь я больше никогда не услышу музыки». Тут был и Пушкин, наш великий поэт; я его давно знала; мой отец приютил его в то время, когда он был преследуем императором Александром I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец принял участие в бедном молодом человеке, одаренном таким громадным талантом, и взял его с собой, когда мы ездили на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно расшатано. Пушкин этого никогда не забыл; он был связан дружбою с моими братьями и ко всем вам питал чувство глубокой преданности. В качестве поэта, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, которых встречал. Я помню, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шёл за нами, я стала, для забавы, бегать за волной и вновь убегать от неё, когда ока меня настигала; под конец у меня вымокли ноги; я это, конечно, скрыла и вернулась в карету. Пушкин нашёл эту картину такой красивой, что воспел её в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было тогда только 15 лет.
Позже, в «Бахчисарайском фонтане», он сказал:
В сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию всё, что видел. Но во время добровольного изгнания в Сибирь жён декабристов он был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить своё «Послание к узникам», для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александрине Муравьевой. Вот оно:
Ответ князя Одоевского, государственного преступника, приговоренного к каторжным работам:
Пушкин мне говорил: «Я намерен написать книгу о Пугачёве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках». Он написал своё великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал. Сестра Орлова приехала в Москву проститься со мной. Её муж, один из главных деятелей общества, проживал тогда спокойно в деревне: его спас брат его - граф Орлов как при помощи ответов, которые он помогал давать ему за запросы, присылаемые в тюрьму, так и в силу благосклонности, которую он пользовался у его величества. Я забросала сестру вопросами о деле, она отвечала уклончиво. Что меня больше всего мучило, это то, что я прочла в напечатанном приговоре, будто мой муж подделал фальшивую печать с целью вскрытия правительственных бумаг. Я просила сестру со слезами на глазах: «Ужели правда, что Сергей мог подделать печать?» Она мне ответила, что это вздор, и старалась меня успокоить, но ничего мне не объяснила; вероятно, она боялась, как бы я не стала об этом рассказывать до своего отъезда; но под конец созналась в том, что Сергей для того, чтобы спасти её мужа, распечатал не казенную бумагу, а письмо, будучи к тому почти уполномоченным Киселевым, которому оно было адресовано. Вот как было дело: в 1822 году произошли беспорядки в 16-й дивизии, которою командовал Михаил Орлов; его окружающие были мало сдержанны в своих словах к ученикам школ, устроенных по методу Ланкастера, введенному в России Михаилом (Орловым). Все эти неосторожные и несвоевременные слова передавались унтер-офицерам и рядовым; они повели к нарушению порядка подчинения, о чём было доведено до императора Александра I, который приказал назначить следствие. Генерал Киселев, начальник штаба 2-й армии, был очень дружен с Михаилом и Сергеем; будучи вынужден ехать за границу, по нездоровью своей жены, он сказал моему мужу: «Мне досадно, что я не могу остаться ещё на несколько дней: я жду письма относительно дела Михаила, я бы его сообщил вам, дабы вы могла предупредить его о том, что делается». На другой же день это письмо было получено моим мужем, который его прочитал, запечатал первой попавшейся печатью и, таким образом, дал Михаилу возможность приготовить свои ответы. Такой поступок не только не предосудителен, но даже не представляет злоупотребления доверием, так как Киселев желал, чтобы это письмо было известно Орлову. Но возвратимся к моему путешествию. Сестра, видя, что я уезжаю без шубы, испугалась за меня и, сняв со своих плеч салоп на меху, надела его на меня. Кроме того, она снабдила меня книгам, шерстями для рукоделья и рисунками. Я должна была провести два дня в Москве, так как не могла не повидать родственников наших сосланных; они мне принесли письма для них и столько посылок, что мне пришлось взять вторую кибитку, чтобы везти их. Я покидала Москву скрепя сердце, но не падая духом; со мной были только человек и горничная, которая «по паспорту ходила» и оказалась очень не надежной. Я ехала день и ночь, не останавливаясь и не обедая нигде; я просто пила чай там, где находила поставленный самовар; мне подавали в кибитку кусок хлеба, или что попало, или же стакан молока, и этим всё ограничивалось. Однажды в лесу я обогнала цепь каторжников; они шли по пояс в снегу, так как зимний путь ещё не был проложен; они производили отталкивающее впечатление своей грязью и нищетой. Я себя спрашивала: «Неужели Сергей такой же истощённый, обросший бородой и с нечёсанными волосами?» Я приехала в Казань вечером; был канун Нового года; меня высадили, не знаю почему, в гостинице; дворянское собрание было в том же дворе, залы его были ярко освещены, и я увидела входящие на бал маски. Я говорила себе: «Какая разница! здесь собираются танцевать и веселиться, а я еду в пропасть: для меня всё кончено, нет больше ни песен, ни танцев». Это ребячество было простительно в моём возрасте: мне только что минул 21 год. Мои мысли были прерваны появлением чиновника военного губернатора; он меня предупреждал, что я лучше сделаю, если вернусь обратно, так как княгиня Трубецкая, которая проехала раньше, должна была остановиться в Иркутске (её не пустили дальше), а вещи её подвергли обыску. Я ответила, что все предостороженности мною приняты и что меня пропустят, так как у меня есть на то разрешение государя императора. Это мне напоминает, как сестра Орлова, чтобы помешать мне ехать, говорила: «Что ты делаешь? Твой муж, может быть, запил, опустился!» - «Тем более мне надо ехать», - отвечала я. Я продолжала путь; погода была ужасная; хозяин гостиницы мне сказал, что было бы осторожнее обождать, потому что будет метель. Я подумала, что не с тем ещё мне придётся бороться в Сибири, велела опустить рогожу с верха кибитки и поехала. Но я не знала степных метелей: снег накопляется на полости кибитки, между нами и ямщиком образовалась целая снежная гора. Я заставила прозвонить свои часы, они пробили полночь - мой Новый год, моя встреча Нового года! Я повернулась к своей горничной, чтобы пожелать ей хорошего года, не имея никого другого, кого поздравить; но она была так не в духе, я нашла ее выражение лица таким отталкивающим, что обратилась к ямщику: «С Новым годом тебя поздравляю!» И моя мысль перенеслась к моим родителям, к моей молодости, моему детству. Как этот день всегда у нас праздновался, сколько радостей, сколько удовольствий! А мой бедный Сергей, что с ним? Тяжелая действительность представилась мне во всей своей силе; я продолжала думать только о муже. Лошади стали; ямщик объявил, что мы сбились с дороги и что надо выйти и искать убежища. К счастью, неподалеку оказалось зимовье дровосека, мы вошли в него; я велела затопить печь, заварила чай для людей и дождалась утра, чтобы продолжать путь. Так ехала я в продолжении 15 дней, то пела, то говорила стихи, не встретив на пути ничего примечательного; я не видела местности, через которую проезжала: холод стоял сильный, и кибитка была закрыта. Однажды вечером слуга сказала мне, что мы подъезжаем к станции; я приказала поднять рогожу и увидела большие костры, разложенные среди деревни; их поддерживали, чтобы дать возможность толпе народа обогреться: женщины, дети, солдаты, крестьяне — все стояли вокруг огней. Я спросила: «Что это?» — «Это Серебрянка из Нерчинска». Я в восторге: получу известие о муже. Иду на почтовую станцию и для вида спрашиваю себе чаю. Входит офицер, провожающий Серебрянку; он не снимает фуражки и продолжает курить, выпуская клубы дыма от отвратительного табака; засаленный кисет с табаком висел у него на пуговице сюртука. Несмотря на его грубый вид, я у него спрашиваю, где находятся государственные преступники? Он взглянул на меня в упор и сказал, повернувшись спиной и уходя: «Я их не знаю и знать не хочу» (Это был некто Фитингоф, заключенный впоследствии в Соловецкий монастырь за безнравственную жизнь.) Тогда один из его солдат, стыдясь за своего начальника, подходит ко мне и говорит вполголоса: «Я их видел, они здоровы, они в Нерчинском округе, в Благодатском руднике». Этот добряк показал себя более человечным и вежливым, чем его начальник. Мое путешествие не имело больше никаких приключений, если не считать, что лошади меня понесли с самой высокой горы Алтая: я выпрыгнула в снег, не сделав себе ни малейшего вреда. Читайте дальше: Записки Марии Николаевны Волконской (продолжение).
|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||